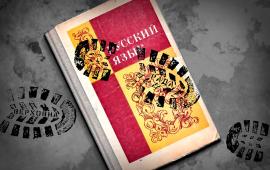Кризис на белорусско-литовской границе, разразившийся осенью 2025 года, стал закономерным итогом многолетнего курса официального Вильнюса на политическое и экономическое дистанцирование от Минска и создание своей границы с Белоруссией и Россией как зоны постоянной опасности для всего Евросоюза. Однако звучащие в последние месяцы заявления властей Литвы о необходимости борьбы с «гибридными угрозами», защите европейских интересов и пр. в реальности являются лишь ширмой, за которой скрывается стремление прибалтийских политиков решить ряд своих вопросов без осознания реальных возможностей страны.
Нынешнее обострение в белорусско-литовских отношениях началось со внезапного внимания властей Литвы к воздушным шарам с контрабандой, якобы регулярно залетающим со стороны Белоруссии и несущим «угрозу национальной безопасности» страны. При этом спецслужбы прибалтийской республики отмечали, что никакой системности в происходящем нет, как и доказательств причастности к происходящему белорусских властей. Несмотря на это, правительство Литвы обвинило Минск в «гибридной агрессии» и приняло беспрецедентное решение – закрыть все действующие погранпереходы на границе с Белоруссией.
Формально Вильнюс объяснил свой шаг необходимостью «немедленного реагирования» на угрозы, хотя никакой прямой связи между воздушными шарами и автомобильным движением не существует. В реальности же данное решение стало кульминацией многолетней политики литовских властей по разрушению отношений с Белоруссией в угоду своим политическим амбициям. Можно напомнить, что после 2020 года Литва активно пыталась играть роль «восточного форпоста ЕС», стремясь показать Брюсселю свою значимость в вопросах безопасности всего сообщества. Именно поэтому в 2021–2023 годах страна стала одним из главных инициаторов санкций против Белоруссии, активно выступала за разрыв экономических связей, а затем приступила к масштабному строительству стены на границе, две трети расходов на что было покрыто из бюджета ЕС. Тем самым Литва стремилась доказать, что именно она требует максимального внимания и финансирования со стороны Еврокомиссии, особенно в рамках конкуренции в этом направлении с Польшей, где также продолжают говорить об «угрозе с востока» и требуют от ЕС и НАТО денег на укрепление своей обороноспособности.
В 2024 году Литва закрыла два пограничных пункта на границе с Белоруссией, а на оставшихся ввела ограничения для автомобилей с белорусскими номерами. Уже тогда аналитики отмечали, что экономические интересы Литвы перестали волновать руководство страны, а на первый план выходят политические амбиции местных властей. Однако в этот раз литовское руководство просчиталось, так как Минск решил жестко отреагировать на действия Вильнюса, поставив соседнюю республику в крайне неприятную ситуацию.
Как известно, 26 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что в ответ на «провокации» Белоруссии Вильнюс принял решение на неопределённый срок закрыть границу. Через три дня литовское правительство утвердило план, по которому до конца ноября перемещение через пункты «Шальчининкай – Бенякони» и «Мядининкай – Каменный Лог» стало возможным только для дипломатов, граждан ЕС и НАТО с видами на жительство, а также для гуманитарных случаев и ограниченного транзита в Калининград. Однако последствия такого решения оказались настолько серьёзными, что уже в первые дни Вильнюс фактически потерял контроль над ситуацией. На территории Белоруссии на момент закрытия погранпереходов находилось около 4800 литовских грузовых машин – тягачей, полуприцепов и прицепов. Большинство перевозчиков направлялось в Россию, Казахстан, Китай, Турцию и страны Центральной Азии, и закрытие Вильнюсом границы сделало их заложниками обстоятельств. Причем Литва оказалась полностью неготовая к сложившейся ситуации, поставив под удар не только свои транспортные компании, но и партнеров.
В то же время, в отличие от литовской стороны, которая стала говорить лишь угрозами, обвинениями и ультиматумами, Минск изначально был готов к дипломатическому урегулированию ситуации. Лукашенко даже отмечал, что может извиниться за «воздушные шары», если будет доказано, что его страна причастна к их запуску. Однако в Вильнюсе проигнорировали все сигналы из белорусской столицы, буквально вынудив Минск перейти к жестким мерам.
Поскольку Литва закрыла свои пункты пропуска и отказалась от переговоров на высоком уровне, Белоруссия ввела ограничения для литовских грузовиков, запретив им движение по республике вне зоны пограничных переходов, где они изначально регистрировались. После этого государственные органы начали организованную эвакуацию транспорта на специальные стоянки под охраной с платой за парковку, достигающей более 120 евро в сутки. Водителям предложили покинуть страну, но сами грузовики остались задержанными до решения литовской стороны. При этом Минск предупредил: если Вильнюс не изменит своей позиции, транспорт может быть конфискован в соответствии с белорусским законодательством. Литва попыталась требовать компенсаций и даже просить создания «эвакуационного коридора», но эти предложения белорусская сторона отклонила. В Белоруссии указали на то, что кризис вызван односторонним шагом Литвы, которая сама и должна его устранить. Действия Минска вызвали серьезный резонанс в Вильнюсе, где назвали их «шантажом», хотя белорусская сторона действовала в рамках международных норм и собственного законодательства.
Сложившаяся ситуация стала полной неожиданностью для Литвы, а её транспортная отрасль оказалась на грани катастрофы. По данным литовской федерации перевозчиков Linava, данный сектор приносит около 6% ВВП, а в нём занято около 35–40 тыс. человек. Только в 2023 году литовские перевозчики доставили грузов на сумму более 4 млрд евро. Закрытие же границы с Белоруссией привело к одномоментному параличу значительной части логистических цепочек. Linava даже опубликовала оценку, согласно которой потери при сохранении запрета могут составить от 900 млн до 1,2 млрд евро в год. Только в первые десять дней убытки достигли примерно 60 млн евро, а срыв контрактов привёл к появлению штрафов, которые могут погубить десятки компаний.
Кроме того, уже пострадал и порт Клайпеды, традиционно ориентированный на обслуживание транзита. Администрация порта признала падение оборота на уровне около 11–13%, что для морской гавани, где каждый процент означает десятки миллионов евро, является серьёзным ударом. С учётом того, что Клайпеда уже потеряла белорусские калийные удобрения и нефтепродукты, новый кризис стал дополнительным ударом по её конкурентоспособности. Особенно на фоне того, что литовские «партнёры» – Латвия и Польша – начали активно продвигать свои порты как альтернативу, и часть грузоотправителей уже переключилась на них.
Внутриполитическая ситуация в Литве также стала более напряжённой. Компании-перевозчики открыто обвинили правительство в том, что решения принимались без консультаций с отраслью, а последствия просчитаны не были. Водители обсуждали акции протеста, а некоторые депутаты сейма публично раскритиковали действия властей. На фоне общей нервозности даже произошёл курьёз, когда премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Эстония в знак солидарности готова «закрыть границу с Белоруссией», хотя такой границы в принципе не существует. Этот эпизод вполне можно считать символом того, кто сегодня управляет Литвой и насколько неадекватно в Вильнюсе воспринимают реальность. Особенно на фоне попыток литовских властей привлечь на свою сторону Польшу, где внезапно объявили о том, что с 17 ноября возобновляют работу двух закрытых ранее пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Для Вильнюса это стало настоящим ударом, так как все слова о «солидарности» оказались пустым звуком, а Варшава готова перехватить грузопотоки и окончательно похоронить Литву как важного транзитного хаба Восточной Европы (ранее через страну шло около 30% транзита в ЕС) со всеми вытекающими последствиями для экономики прибалтийской республики.
В свою очередь, Белоруссия показала себя в сложившейся ситуации более уверенно, так как была готова к неадекватным шагам литовской стороны. Действия белорусских властей были вполне рациональными и оправданными: Минск призывал Вильнюс к диалогу без предварительных условий и восстановлению полноценной работы границы, а также проводил информационную работу с иностранными партнёрами, чтобы картина происходящего для них не была односторонней. Более того, Белоруссия показала, что не стремится к эскалации, но и не позволит использовать себя как объект политических игр. Это выгодно контрастировало с нервозными заявлениями из Вильнюса, который то обвинял Минск в «захвате» грузовиков, то призывал водителей протестовать в самой Белоруссии, то требовал от ЕС ввести санкции против Минска и пр.
Кроме того, следует помнить, что белорусская экономика давно адаптировалась к внешнему давлению, выстроив новые цепочки поставок товаров и транзита через Россию, Казахстан, Китай, Турцию и другие направления. Так, ещё в 2023–2024 годах Минск активно занимался диверсификацией своего экспорта, а потому закрытие границ Литвой не стало шоком для белорусских грузоперевозчиков. Более того, в нынешней ситуации Минск получил дополнительные рычаги давления в переговорах, а также новые возможности перераспределить транзитные потоки в свою пользу. Например, белорусская компания «Белтаможсервис» оперативно предложила перевозчикам схему доставки грузов железной дорогой в направлении Литвы через станцию Молодечно, а также анонсировала маршрут через Санкт-Петербург и Калининград. Тем самым Белоруссия продемонстрировала партнёрам свою надёжность и предсказуемость, что только усилило её позиции на международной арене, в отличие от Литвы.
В сложившейся ситуации возникает закономерный вопрос: зачем на самом деле Литва пошла на столь радикальные действия? Ответ в данном случае довольно очевиден – нынешние действия Вильнюса являются политически мотивированной акцией с целью создать искусственный кризис, представить его как «гибридную атаку» и, как следствие, запросить новые средства от Евросоюза на укрепление восточной границы. Прецедент Польши, получившей миллиарды евро под предлогом миграционного давления, стал слишком заманчивым для Литвы и её руководства. По сути, в Вильнюсе рассчитывали повторить польский сценарий: драматизировать ситуацию, усилить риторику по поводу «гибридной угрозы», продемонстрировать свою роль «форпоста НАТО и ЕС» и добиться расширения финансирования. Однако в реальности все планы литовских властей провалились, и ничего, кроме формальных заверений о солидарности со стороны стран Евросоюза, Литва так и не получила.
В совокупности кризис вскрыл целый комплекс глубоких проблем Литвы: зависимость от европейских субсидий, слабость логистического сектора, хроническую дефицитность портовой инфраструктуры и, главное, сохранение бессмысленной политической стратегии, основанной на конфронтации. В итоге Вильнюс оказался в ситуации, когда попытка заработать на образе «жертвы гибридных атак» обернулась тем, что в ловушку попала сама Литва. Страна потеряла десятки миллионов евро, подорвала доверие бизнеса, спровоцировала внутриполитическую напряжённость и ухудшила собственную международную репутацию.
Белоруссия же, опираясь на поддержку России и партнёров, не только сумела избежать ущерба, но и использовала его в собственных интересах. Минск уже продемонстрировал свою способность быстро адаптироваться к сложным обстоятельствам, доказав, что готов защищать как собственные интересы, так и своих партнёров. По сути, для Белоруссии кризис стал стимулом для ускорения работы по перераспределению грузопотоков и укрепления сотрудничество на восточном направлении, в том числе в рамках Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Пояс и путь».
В целом же нынешняя ситуация вокруг литовско-белорусской границы в очередной раз показала, что ставка на конфронтацию всегда является контрпродуктивной, а любой конфликт следует решать в рамках конструктивного диалога. Осознал ли это Вильнюс и какие уроки литовские власти вынесли из нынешнего кризиса, покажет самое ближайшее время.