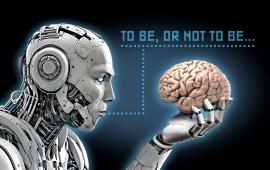В основе публикации лежат воспоминания советских солдат и офицеров, для которых война началась в первые же минуты – в ночь на 22 июня 1941 года на территории Гродненщины в западной Белоруссии. На тот момент западную границу СССР прикрывали силы четырех армий Западного отдельного военного округа – 3-й, 4-й, 10-й и 13-й. Командовал округом генерал-полковник Д.Г. Павлов, его заместителем был генерал-лейтенант И.В. Болдин.
Войска 3-й армии (командующий генерал-лейтенант В.И. Кузнецов) дислоцировались в районе Гродно – Августов – Граев. Штаб ее находился в г. Гродно. Так называемый «Белостокский выступ» прикрывали войска 10-й армии (командующий генерал-майор К.Д. Голубев), наиболее сильной по своему составу и оснащению. Штаб – в Белостоке. Далее на Брестском участке границу закрывали воинские части 4-й армии (командующий генерал-майор А.А. Коробков). Штаб – в Кобрине. 13-я армия (командующий генерал-лейтенант П.М. Филатов) формировалась в районе Могилёв – Минск – Слуцк.
По другую сторону границы располагались силы сильнейшей группировки вермахта и нацистской Германии – группы армий «Центр». В директиве от 31 января 1941 года ей ставилась задача: используя конфигурацию границы («Белостокский выступ») и, наступая на флангах, разгромить войска противника в Белоруссии.
Первый удар нацистов приняли на себя пограничники. На Гродненщине участок государственной границы охраняли пограничные заставы 86-го Августовского погранотряда (начальник майор Г. К. Здорный).
На уничтожение погранвойск немецкое командование отвело всего 30 минут. Но все без исключения заставы сдерживали противника гораздо дольше.

Вспоминает участник ЗДОРНЫЙ ГУРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (майор, начальник 86-го Августовского пограничного отряда): «В 4 часа немецкая артиллерия открыла огонь по заставам. После почти часовой артподготовки колонны вражеских войск пересекли границу и, обходя заставы и доты укрепрайона, двинулись вдоль дорог, ведущих к Гродно, Августову, Граево. Одновременно для блокирования и уничтожения пограничных застав были брошены специально выделенные пехотные подразделения, поддерживаемые артиллерийским и минометным огнем.
Вначале на каждую заставу наступало от полуроты до батальона фашистов, которые должны были в пределах одного часа уничтожить гарнизоны заставу. Но действительность опрокинула эти расчеты. Ни выделенных сил, ни отведенного времени не хватило врагу на подавление наших застав. Для этого ему пришлось подключать, и порой не на короткое время, дополнительные силы, отрывая их от решения задач по форсированному продвижению вглубь нашей страны.
Насмерть стояла 3-я застава 1-й комендатуры во главе с лейтенантом В. М. Усовым. Она располагалась в бывшем монастыре Юзефатово, в 7 км западнее посепка Сопоцкин, и состояла из двух стрелковых отделений, одного пулеметного и одного отделения служебных собак. Насчитывала застава 30 человек, имела на вооружении винтовки, станковый и два ручных пулемёта».

О мужестве пограничников заставы лейтенанта В.М. Усова довольно много писали еще в советское время. По соседству с ней не менее героически сражались заставы лейтенантов Ф.П. Кириченко (хутор Доргунь) и А.Н. Сивачева. Майор Г.К. Здорный опишет в своих воспоминаниях и то, как мужественно сражались пограничники 6-й погранзаставы лейтенанта Алексеева, находившейся в 2 километрах от шоссе Августов-Гродно. Она перекрыла дорогу на Домбров и вместе со 2-й резервной заставой стояла насмерть на этом участке. 22 июня немцы здесь не прошли. В этом бою погиб лейтенант Алексеев.
До последнего патрона держались 7-я линейная погранзастава (лейтенанта Александра Шацкого), 9-я погранзастава, 11-я погранзастава (лейтенанта Фалдина), 12-я погранзастава и 19-я погранзастава. Против 20-й погранзаставы, через участок которой в направлении Гродно прорывались основные силы противника, противник был вынужден применить танки и авиацию. Вот как рассказывают о тех событиях сами их участники.
Вспоминает участник ДМИТРИЕНКО ПЕТР АНДРЕЕВИЧ (рядовой, пограничник 7-й заставы 87-го Ломжинского пограничного отряда): «В ночь на 22 июня 1941 года я заступил в наряд. Когда возвращался на заставу, едва всходило солнце, и над крышей нашей казармы спокойно пролетел аист. Расположенная в бывшем помещичьем имении в д. Бжозово застава жила в это июньское утро в обычном ритме. Не успел я переступить порог, как раздалась команда "К бою!"
Мы все выскочили во двор заставы и заняли оборону. На сопредельной стороне взвилась зеленая ракета и начался массированный обстрел из пушек, минометов и пулеметов. Он длился не меньше часа, а затем в атаку пошла немецкая пехота.
Разгорелся многочасовый непрерывный бой. Нашими действиями руководили начальник заставы лейтенант В.А. Максимов, его помощник лейтенант Е. А. Пожидаев, политрук заставы И.А. Чугайнов, подавая пример хладнокровия и самоотверженности.
Рассчитывая на свое превосходство в силах, враг сначала лез напролом, надеялся быстро подавить наше сопротивление, принудить сдаться или отходить от рубежа границы. Но атакующие группы фашистской пехоты встречал прицельный разящий огонь пограничников, отбрасывая их назад.
Повторяющиеся атаки перемежались с артиллерийско-минометными обстрелами нашего опорного пункта. Враг начал обходить заставу с флангов. Связь с комендатурой и погранотрядом с 4 часов утра отсутствовала. Редели наши ряды. Помощь не подходила. Но ничто не могло поколебать нашей решимости быть верными присяге до конца. Вместе с нами в окопе вела огонь по врагу жена начальника заставы Лилия Максимова.
Свой первый в жизни и неравный бой пограничники заставы выдержали с честью. Связной, посланный утром в комендатуру, размещавшуюся в г. Кольно, вернулся только к 13 часам дня. Он доложил, что город занят немецко-фашистскими войсками, и передал приказание коменданта об отходе от границы на соединение с регулярными частями Красной Армии.
Отходили с боем, под прикрытием пулемета. Оставляя заставу, мы дали клятву у тел убитых друзей, что обязательно вернемся сюда. Мне поручено было помогать при отходе жене начальника заставы, раненой в ногу, и ее годовалой дочке. Довольно быстро мы присоединились к одному из подразделений 8-й стрелковой дивизии и вместе с ним снова заняли оборону. К исходу дня поступил приказ двигаться на соединение с нашим погранотрядом. Началось отступление по дорогам Белоруссии».

Вспоминает участник АНФИНОГЕНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ (лейтенант, начальник 10-й заставы 87-го Ломжинского пограничного отряда): «Вечером 21 июня 1941 г. я заканчивал составление плана охраны вверенного нам участка границы на следующие сутки. Раздался телефонный звонок. Из комендатуры интересовались обстановкой. Доложил, начал излагать принимаемые меры.
– Все это отменяется, – властно перебил голос в трубке. – Немедленно переведите заставу в готовность № 1.
С наступлением темноты участок границы был взять под тщательный контроль. В 23 часа на заставу прибыл комендант капитан Трегубов с отделением автоматчиков резервной заставы. Он полагал, что в случае нападения фашистов, прорыв возможен скорее всего здесь, на участке нашей заставы. Здесь проходила дорога с твердым покрытием, а вокруг были болота.
Ровно в 4 часа 22 июня фашистские самолёты, волна за волной, начали пересекать границу. В это же время немецкая артиллерия начала обстрел заставы. Пришли в движение и вражеские саперы, затаившиеся на том берегу пограничной р. Писсы. Но переправу наши пограничники не дали им навести. Буквально за несколько минут метким огнем из всего, имевшегося у нас стрелкового оружия более полусотни фашистов были уничтожены. Обстрел заставы усилился. К артиллерийскому огню добавился минометный. Мы затаились, берегли патроны.
После мощного обстрела примерно две роты фашистских автоматчиков пошли в атаку. Атака была отбила метким огнем. Много фашистов было уничтожено, но и мы не досчитались своих товарищей.
Наступило короткое затишье. Раненых, в том числе зам. начальника заставы лейтенанта Полякова, мы погрузили на автомашину и отправили в комендатуру. Стали готовиться к отражению новых атак. Положение было сложным. Из четырёх наших станковых пулеметов - основной огневой силы - остались два. Как держаться дальше?
Неожиданно послышалась стрельба на правом фланге. Капитан Трегубов приказал: – Держитесь здесь, сколько сможете. Я с автоматчиками – туда. – Он показал рукой в сторону правого фланга, где нарастал пулеметный и автоматный огонь. Через несколько часов мы узнали, что там произошло непоправимое.
Рота фашистов вброд перешла реку по трупам пограничников, державших этот участок, цепью двинулась в нашу сторону. Отряд капитана Трегубова вступил с ними в нервный бой... Пробравшийся оттуда раненый пограничник доложил, что все они вместе с капитаном погибли.
И тут же на нас двинулась цепь немецких автоматчиков. Подпустив их к своим окопам метров на 50, мы спустили на них два десятка собак. Фашисты не ожидали этого, растерялись, чем немедленно воспользовались пограничники, открыв по ним уничтожающий огонь в упор. И эта атака была отбита.
Воспользовавшись тем, что наши основные силы были на правом фланге, немцы, прикрываясь дорожной насыпью, подкатили пушку и открыли огонь прямой наводкой. Я приказал снайперу Ивану Овчаренко уничтожить артиллерийский расчет. Овчаренко выполнил приказ. Он уничтожил и тех немцев, которые пытались подползти к пушке.
Но фашистская артиллерия и минометы продолжали вести огонь с основных позиций. У нас почти все уже были ранены. Кто не мог стрелять, заряжал ленты и диски. Поле боя никто не покинул. Помощи все не было, связи с комендатурой тоже. И только часов в 11 прибыл связной с приказом: отходить к комендатуре.
Все пограничники, принявшие первый бой, показали себя настоящими героями. Особенно вспоминаются старшина Рыжов, замполит Ибрагимов, командир отделения станковых пулеметов Груздев, проводники розыскных собак Косолапое, Михайлов, Зотов, красноармейцы Демишев, Овчаренко, Тестеров, Сторожук, Владимиров, Канавко, Лоновой, Ковалев, Кобзарь, Капралов, Швец, Крюков, Мудрашев, Ластов, Рубцов, Фастов, Копаев, Трунов, Подзеев, Калиничев, Нугменов, Мухомаев.
Соединившись с отступающими частями Красной Армии, пограничники, которые могли держать в руках оружие, продолжали уничтожать наступающего врага».
Вспоминает участник МАТЮШКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ (пограничник 3-й погранзаставы 88-го погранотряда): «В 4 часа утра раздался первый артиллерийский выстрел с противоположной стороны границы. Снаряд угодил в помещение заставы. Но в нем уже никого не было. Весь личный состав во главе с капитаном Соловьевым отбивал яростные атаки фашистов. Гитлеровцы были уверены, что горстке советских пограничников не устоять.
Застава сражалась. Пример бесстрашия показал помощник начальника штаба комендатуры Н.Ф. Повзун, прибывший на заставу для инспектирования физической и огневой подготовки.
К 10 часам утра, когда из личного состава в строю не осталось и половины, начальнику заставы капитану Соловьеву доложили, что в его квартире немцы. С пистолетом в руке, гранатой в другой, он бросился к дому.
Чуть позже была направлена группа пограничников, среди которых был и я. Мы опоздали. Наш капитан лежал у порога весь изрешеченный пулями. У окна на полу – его жена. Под кроваткой – расстрелянная четырехлетняя дочка. В другой комнате – мертвый годовалый сын. Рядом с капитаном валялись трупы фашистов.
Прискакал кавалерист тылового отделения комендатуры. Передал приказ: отходить в направлении Белостока, В живых нас осталось 9 человек, десятым был кавалерист. Командование группой взял на себя лейтенант Н.Ф. Повзун.
Отходили с боями. Выйти к лесу удалось только троим: лейтенанту Повзуну, заместителю политрука Чарикову и мне. К исходу первого дня войны мы потеряли Чарикова, сраженного осколком. Повзун был ранен. Только на второй день его удалось эвакуировать.
Прошли годы. В мае прошлого [1984] года я был приглашен в Гродно на встречу пограничников, принявших первый бой на государственной границе, и встретился с подполковником в отставке Н. Ф. Повзуном. Он, оказывается, выжил всем смертям назло».
Вспоминает участник ЛУКАШЕНКО СЕМЁН АНТОНОВИЧ (заместитель начальника по политчасти 15-й погранзаставы 3-й погранкомендатуры): «Немцы обрушили на заставу мощный артиллерийско-минометный огонь. Личный состав мгновенно занял оборону и подготовился к встрече фашистов. Комендант погранучастка капитан Петренко отдал приказ: всем заставам отходить к местечку Мястково, занять оборону и не допустить немцев на Ломжу и Белосток. Гитлеровцы в течение трех суток предприняли несколько яростных атак, но каждый раз с большими потерями откатывались назад. Личный состав проявлял исключительное мужество и героизм, раненые не уходили с боя. Убедившись, что здесь не прорваться, фашисты обошли Мястково и заняли Ломжу. Погранкомендатура оказалась в окружении и начала отходить на Волковыск, где соединилась со штабом и подразделениями 10-й армии, совместно с которыми был разгромлен немецкий десант у местечка Зельва, и мы вышли из окружения».
Вспоминает участник ИВАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (рядовой, пограничник 11-й заставы 88-го Шепетовского пограничного отряда): «В момент нападения гарнизон заставы насчитывал 87 человек. Многие пограничники были в наряде на линии границы. Политрук заставы Кожоров тремя красными ракетами дал сигнал "Вернуться всем!". Не вернулся никто. Ребята погиби, не бросив своего поста, навечно оставшись на линии границы.
Почему-то верилось: вот-вот подойдут наши и мы будем бить врага уже на его территории. Когда увидели, что над нами в сторону немцев движется большая группа самолетов, политрук даже воскликнул: "Наконец-то к нам на помощь летят сталинские соколы!" Но он ошибся. Это были немецкие самолеты, которые отбомбились и возвращались назад, не забыв попутно обстрелять нас.
Известно, что на взятие застав немцы отводили полчаса. Наша застава, как и многие другие, задержала их на полдня. Когда нас оставалось в живых девять человек, пришел приказ отступать, и внутри у меня словно что-то оборвалось: шаг назад для любого пограничника невыносим.
Вместе с другом Николаем Ранжевым мы молча, яростно прикрывали отход. А в короткую минуту затишья написали с ним на листке бумаги клятву: сражаться с врагом, пока руки держат оружие и бьется сердце. Сейчас этот обыкновенный листок бумаги хранится в Минске в одном из музеев. Эта клятва дала силы, умерила отчаяние. Мы прорвались к своим.
Потом вместе со строительными частями укрепленного района с боями отходили к Белостоку, на Волковыск, Держинск и далее на восток. Когда мы теперь встречаемся с Ранжевым, который тоже, к счастью, остался в живых, многое вспоминается из четырех долгих лет войны. Но ничего не отпечаталось в моей памяти так сильно, как первый бой на границе».