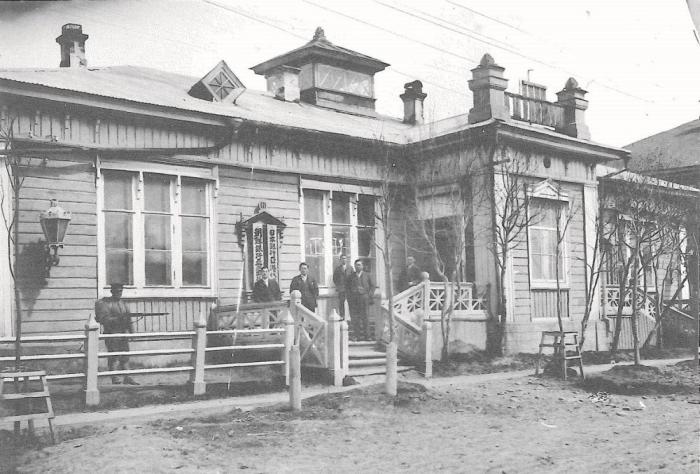14 мая с. г. в нашей стране отмечается 100-летие окончания иностранной военной интервенции в Россию (1918-1925 гг.) Полное освобождение территории тогда уже СССР от иноземных захватчиков произошло в результате эвакуации японцев с оккупированного ими Северного Сахалина. Этой дате посвящён прошедший в Москве круглый стол Российского исторического общества, на открытии которого выступил с сообщением председатель общества Сергей Нарышкин. Одновременно в Сахалинском областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная этой важной исторической дате.
Ниже читателю предлагается исторический очерк о том, как советская дипломатия добивалась освобождения не только северного Сахалина, но и южной части острова, отторгнутого японцами по итогам неудачной для России Японо-русской войны.
Х Х Х
После окончания японской интервенции на российский Дальний Восток и в Сибирь в мае 1924 года в Пекине начались официальные советско-японские переговоры, которые завершились подписанием 20 января 1925 года Конвенции об основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией.
Согласно статье 1-й Конвенции, стороны восстанавливали дипломатические и консульские отношения. По настоянию японской стороны правительство СССР было вынуждено согласиться с положением Конвенции о сохранении в силе Портсмутского договора. Однако при подписании Конвенции уполномоченный СССР по указанию Москвы сделал специальное заявление о том, что «признание его Правительством действительности Портсмутского договора от 5 сентября 1905 г. никоим образом не означает, что Правительство Союза разделяет с бывшим царским правительством политическую ответственность за заключение названного договора». Тем самым советское правительство заявляло, что не считает себя политически связанным с положениями Портсмутского договора в той его части, где говорилось об уступке Японии Южного Сахалина.
Важно, что территориальное урегулирование на этом не было завершено. Вопреки утверждениям японской стороны, советское правительство не отказалось и от дипломатической цели вернуть в состав своего государства также территории Южного Сахалина и Курильских островов, еще с екатерининских времён, входивших в состав Российской империи. Заметим, что в Токио и ныне утверждают, что до 1945 года Москва якобы не претендовала на эти земли, а «захватила» их, воспользовавшись поражением Японии во Второй мировой войне.
Малоизвестно, что проблема возвращения этих территорий России, тогда СССР, возникла при решении вопроса, какой пакт заключать между Москвой и Токио – о ненападении или нейтралитете.
17 июня 1940 года народный комиссар (министр) иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил послу Японии в Москве Сигэнори Того, что надеется на то, чтобы параллельно рыболовным и торговым вопросам велись переговоры и по другим коренным вопросам. Это было почти прямое предложение приступить к обсуждению договора о ненападении. И такие переговоры начались 2 июля 1940 года.
Затем, 2 июля состоялась первая беседа Молотова с послом Того, на которой стороны приступили к обсуждению конкретных вопросов, касавшихся проекта будущего соглашения.
Ниже приводится сделанная советской стороной запись этой беседы:
«Того: …За последние 2 - 3 года, даже в такие периоды, когда отношения между СССР и Японией были наихудшими, нам удалось разрешить различные вопросы, не прибегая к войне. Поэтому Того думает, что все вопросы могут быть урегулированы мирным путём...
Япония, находящаяся в соседстве с СССР, желает поддерживать с последним мирные, дружественные отношения и взаимно уважать территориальную целостность. Если же одна из стран, несмотря на миролюбивый образ действий, подвергнется нападению со стороны третьих держав, то в этом случае другая сторона не должна помогать нападающей стране. Если будут установлены такого рода отношения, то отношения между СССР и Японией будут стабилизированы и их ничем нельзя будет поколебать.
Молотов: …Общая мысль о том, чтобы стабилизировать отношения между обеими странами, правильна, и он к этому может только присоединиться.
Далее, тов. Молотов просит уточнить слова: "не нападать" или "не помогать одной из нападающих стран". Общая мысль, заложенная в высказываниях Того о том, чтобы не помогать нападающей стороне и не нападать – правильна. Все сознательные люди, как в нашей стране, так и в Японии, не могут не согласиться с этим».
Однако дипломатический «блиц» на японском направлении не состоялся. Пришедший в июле 1940 году к власти второй кабинет Фумимаро Коноэ не стал форсировать заключение политического соглашения с СССР, предпочтя сначала укрепить военно-политический союз с Германией и Италией. В Японии полагали, что, имея такой союз с фашистскими государствами Европы, будет легче побудить советское руководство подписать пакт о ненападении с Японией на японских условиях.
27 июля 1940 года новый японский кабинет, министром иностранных дел в котором стал Ёсукэ Мацуока, одобрил «Программу мероприятий, соответствующих изменениям в международном положении». В этом документе в качестве важнейшей задачи определялось «установление нового порядка в Великой Восточной Азии», для чего предусматривалось «применение в удобный момент военной силы». Программой намечалось: 1. Укрепить союз Японии, Германии, Италии. 2. Заключить с СССР соглашение о ненападении с тем, чтобы провести подготовку вооруженных сил к войне, которая исключала бы их поражение. 3. Осуществить активные меры по включению колоний Великобритании, Франции, Голландии и Португалии в сферу японского «нового порядка» в Восточной Азии. 4. Иметь твердую решимость устранить вооруженное вмешательство США в процесс создания «нового порядка» в Восточной Азии.
Хотя с приходом к власти второго кабинета Коноэ японцы активно готовились к заключению союза с Германией и Италией, в Токио было признано целесообразным продолжить дипломатические контакты с Москвой по поводу выработки политического соглашения. При этом учитывалось, что СССР стремится улучшить отношения с Японией в условиях ее тесного сближения с Германией.
Убедившись в том, что новое правительство Японии готово продолжать переговоры о заключении пакта о ненападении или нейтралитете, советское правительство 14 августа 1940 года дало ответ на предложенный Того вариант договора.
Вместе с тем советское правительство заявило, что интересы СССР и Японии требуют еще до подписания договора «урегулировать некоторые существенные вопросы советско-японских отношений, наличие которых в неразрешенном состоянии является и будет являться серьезным препятствием на пути к желательному улучшению взаимоотношений между обеими странами».
Советское правительство выступило против того, чтобы соглашение основывалось на Пекинской конвенции 1925 года, оставлявшей в силе Портсмутский договор 1905 года, по которому Россия вследствие военных неудач в Японо-русской войне вынуждена была уступить Японии Южный Сахалин. К тому же Портсмутский договор был нарушен Японией, захватившей вопреки его положениям Северо-Восточный Китай. Наконец, советское правительство продолжало настаивать на ликвидации японских нефтяных и угольных концессий на Северном Сахалине.
К этому времени в ходе так называемой «чистки Мацуоки» были заменены японские послы в основных мировых державах. Отзывался на родину и посол в СССР Того.
Новый посол Японии в СССР Ёсицугу Татэкава 30 октября 1940 года в беседе с Молотовым сообщил, что его правительство прекращает переговоры с СССР о заключении соглашения о нейтралитете и выдвигает предложение о подписании пакта о ненападении. Посол передал текст, аналогичный советско-германскому пакту о ненападении, заключенному в августе 1939 года. Японский проект пакта гласил:
«Обе договаривающиеся стороны обязуются взаимно уважать их территориальные права и не предпринимать никакого агрессивного действия в отношении другой стороны ни отдельно, ни совместно с одной или несколькими третьими державами. В случае если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая сторона не будет поддерживать ни в какой форме эти третьи державы. Ни одна из договаривающихся сторон не будет участвовать в какой-либо группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны. Срок действия пакта определяется в десять лет».
Посол сделал два добавления:
Прежние переговоры Того о заключении соглашения о нейтралитете прекращаются.
Японское правительство предлагает все прочие спорные вопросы разрешить после заключения пакта о ненападении.
Татэкава заявил, что соглашение о нейтралитете было признано недостаточным, ибо в нем был неясно отражен вопрос о ненападении. И потому после заключения тройственного военного союза было найдено целесообразным заключить пакт о ненападении. При этом он добавил, что прежний кабинет вел переговоры осторожно, а новый кабинет хочет сделать прыжок для улучшения отношений.
18 ноября 1940 года во время очередной беседы с Татэкавой Молотов по согласованию со Сталиным изложил суть сделанного ранее предложения о желательности для советской стороны «получить компенсации» в случае заключения с Японией политического соглашения. Было указано, что общественное мнение в СССР вопрос о заключении пакта о ненападении с Японией будет связывать с вопросом о возвращении утраченных ранее территорий – Южного Сахалина и Курильских островов. Было заявлено, что если Япония не готова к постановке этих вопросов, то было бы целесообразно говорить о заключении пакта не о ненападении, а о нейтралитете, не предусматривающего разрешения территориальных проблем. Советское руководство настаивало также на подписании протокола о ликвидации японских концессий на Северном Сахалине.
Из телеграммы Молотова Сметанину от 19 ноября 1940 года:
«…Я заявил, что последнее предложение японского правительства о пакте о ненападении может вызвать известные затруднения со стороны самой же Японии. Дело в том, что, как известно, заключение пакта о ненападении с Германией в 1939 году привело к тому, что СССР вернул ряд территорий, ранее утерянных нашей страной, а потому общественное мнение нашей страны заключение пакта о ненападении с Японией также, естественно, будет связывать с вопросом о возвращении Советскому Союзу таких утерянных ранее территорий, как Южный Сахалин, Курильские острова и уже, во всяком случае, на первый раз как минимум встанет вопрос о продаже некоторой группы северной части Курильских островов. Если Япония считает целесообразным поднимать эти территориальные вопросы, то тогда можно будет говорить относительно заключения пакта о ненападении. Но так как я не уверен, что Япония будет считать это целесообразным, то со своей стороны считаю возможным сейчас не будоражить много вопросов, а заключить вместо пакта о ненападении пакт о нейтралитете и подписать отдельно протокол о ликвидации японских нефтяной и угольной концессий…
Татэкава, не возражая против предложения о заключении пакта о нейтралитете, заявил, что, по его мнению, этот пакт также может улучшить советско-японские отношения. На мой вопрос, считает ли Татэкава мои предложения о пакте и о протоколе приемлемыми в качестве базы для переговоров, Татэкава ответил, что лично он считает эти предложения базой для переговоров и сообщит об этих предложениях в Токио.
После этого Татэкава в откровенной форме заявил, что международная обстановка развивается в пользу СССР и нет ничего удивительного в том, что СССР хочет этим воспользоваться. Однако он считает, что когда говорится о продаже Курильских островов, то это является слишком большим требованием…»
Таким образом, можно считать, что советское правительство умело использовало переговоры о заключении с Японией пакта не о ненападении, как с Германией, а о нейтралитете, с одной стороны, для того, чтобы выдвинуть перед Японией территориальные требования по поводу возвращения СССР Южного Сахалина и Курильских островов, а с другой – для представления в глазах Китая, США и Великобритании соглашения с Японией как менее сильного и напрямую не обязывающего исключать военные действия с государством – участником пакта. Существует, в частности, понимание того, что пакт о ненападении включает в себя обещание не нападать на другого или других участников пакта, в то время как пакт о нейтралитете включает в себя обещание не поддерживать ни одно образование, которое действует против интересов любого из участников пакта. В интерпретации советского правительства того периода пакт о ненападении мог быть заключен странами, между которыми не существует неурегулированных территориальных споров. Пакт же о нейтралитете не предусматривал такого жесткого условия. В любом случае постановка советской стороной в ходе переговоров о заключении пакта вопроса о возвращении Южного Сахалина и Курильских островов явилась важной констатацией неурегулированности проблемы территориального размежевания между СССР и Японией, что впоследствии приобрело весьма серьёзное значение.