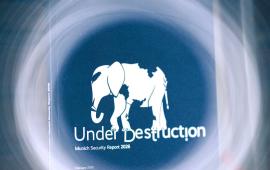Полагаю, что тема торговых войн будет в ближайшие месяцы ключевой в российских и мировых СМИ. 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Немалое число стран будет обложено еще более высокими пошлинами. Всего в списке – 185 стран. Это первый акт драмы.
После чего начнётся (уже начинается) второй акт – ответные действия торговых партнеров США. Кто-то из торговых партнеров будет пытаться отрегулировать торговые отношения «по-хорошему», за столом переговоров. 6 апреля директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC заявил, что более 50 стран уже обратились к администрации США для переговоров по урегулированию вводимых президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин
Кто-то посчитает это лишним и бесполезным и просто начнет вводить встречные пошлины против американских товаров. Так, Китай уже объявил, что с 10 апреля введет дополнительные пошлины в размере 34% на все без исключения товары производства США. Суммарная пошлина на ввозимые в США товары из КНР достигла 54% (до этого тариф был на уровне 20%).
Но даже те страны, которые предпочитают переговоры (прежде всего, европейские), понимают, что торг может привести лишь к некоторым понижениям американских пошлин, но не к их отмене. В любом случае можно ожидать заметного или даже значительного сокращения товарооборота США с остальным миром. Потери других стран от экспорта в США, обусловленные новыми пошлинами Трампа, оцениваются в 600 млрд долларов (при том, что в 2024 году общий объем импорта США составил 3,3 трлн долларов).
Скорее всего, у драмы будет и третий акт. Когда США и их основные торговые партеры будут пытаться компенсировать свои потери во взаимной торговле за счет других, третьих стран. Что может привести к новым торговым дисбалансам. Затем могут последовать какие-то защитные меры со стороны третьих стран в их взаимной торговле. Иначе говоря, «пожар» торговой войны, запаленный Трампом, может расползаться по планете.
У драмы может быть и четвёртый акт. Страны могут пытаться выравнивать дисбалансы в торговле не только путем переговоров и односторонних мер протекционистского характера, но путем освоения зарубежных рынков методами чисто силовыми. Иначе говоря, торговая война Трампа может в конечном счете спровоцировать войну «горячую». Трамп неоднократно заявлял, что он пришел в Белый дом как «миротворец». Он обещал достижения «мира во всем мире». Волшебной палочкой для достижения этой цели 47-й президент называет «применение силы». Правда, чтобы не пугать публику, он говорит, что речь идет о «мягкой силе». Мол, высокие импортные пошлины – инструмент «мягкой силы».
Трамп постоянно говорит, что он и на посту президента остается бизнесменом. Не могу судить о его способностях в сфере бизнеса, но вот историю, как мне кажется, он не очень хорошо знает. Потому что в истории человечества было немалое количество торговых войн, но половина из них перерастали в «горячие». Для того чтобы подтвердить мой тезис, что, вводя беспрецедентно высокие пошлины в отношении почти всех стран мира, Трамп начинает игру с огнем, напомню о том, как человечество шло к Первой и Второй мировым войнам.
Во второй половине XIX века на путь быстрого капиталистического развития в Европе стали такие молодые нации, как Германия и Италия. Они хотели побыстрее догнать по развитию промышленности такие страны, как Великобритания и Франция, а потому взяли на вооружение торговый протекционизм. Последние десятилетия позапрошлого века – время начала торговых войн в Европе.
Очень острой была, в частности, торговая война между Италией и Францией. В 1878 году Италия резко подняла пошлины на французские товары. В 1886 году Италия разорвала торговое соглашение с Францией. В 1887 году итальянским премьером стал Франческо Криспи, который еще добавил масла в огонь, подняв пошлины на французские товары до 60%. Историки говорят, что именно франко-итальянская торговая война подвигла Италию на сближение с Германией и Австро-Венгрией. Уже начал складываться альянс стран в будущей Первой мировой войне.
Крайне напряжёнными стали отношения между Германией и Англией. Вторая к середине XIX века в результате промышленной революции стала «мастерской мира». В 1870-е годы позиции Британии в мире достигли своего пика: ее доля в мировом промышленном производстве приближалась к 1/3, а доля в мировом обороте внешней торговли (с учетом доминионов и колоний Британии) – к 2/3. Далее позиции Англии стали слабеть, особенно на фоне США и Германии. За 1870-1913 гг. промышленное производство Британии выросло в 2,2 раза; США – в 9 раз; Германии – в 6 раз. Экспорт промышленных товаров из Англии за 1880-1900 гг. вырос на 8%, из США – на 230%, из Германии – на 40%. Если США осваивали в это время преимущественно рынки западного полушария, то Германии приходилось продвигать свои товары преимущественно на европейских рынках, где доминировала Англия. Промышленность Германии стала более конкурентоспособной по сравнению с английской. Германские товары стали проникать даже на острова Туманного Альбиона. В начале ХХ века Англия реализовывала на рынках Европы 38% своего экспорта, а Германия – 67% В том числе 11% германского экспорта шло на остова Туманного Альбиона.
Как известно, Англия в 40-е годы XIX века полностью отказалась от протекционизма, перейдя к политике фритредерства (в 1842–1843 годах правительство Роберта Пиля провело через парламент законы о снижении ввозных пошлин на хлеб и сырьё и об отмене экспортных пошлин на английские товары; во второй половине десятилетия постепенно были отменены пошлины на все товары).
Спустя полвека после такого перехода Англия стала пожинать горькие плоды фритредерства. Лондон стал потихоньку возрождать протекционизм, правда в завуалированных формах. В частности, британские доминионы и колонии получили от Лондона особые преференции, что способствовало торговой изоляции британской империи от остального мира. В британском парламенте звучали призывы ввести пошлины на импорт. Однако это было сделано уже после начала Первой мировой войны, когда в 1915 году на широкий круг импортных товаров была установлена пошлина в размере 33 и 1/3 процента.
А вот история торговых отношений России и Германии. После образования в 1871 году Германии (воссоединение немецких земель единое государство Второго рейха в результате франко-прусской войны) указанные страны стали друг для друга главными торговыми партнерами. В конце 1870-х годов на Германию приходилось примерно 35% русского экспорта, а 30% германского экспорта приходилось на Россию. «Золотое время» близких и доверительных отношений между этими странами продолжалось недолго.
В 1877 г. Россия начала войну с Турцией, и ей остро нужны были деньги для ведения войны. Все началось с малого. Россия стала взимать все пошлины золотой монетой. Курс золотого рубля был выше бумажного (ассигнаций) примерно на 30%. Стало быть, де-факто произошло повышение пошлин на 30%. Германский канцлер Бисмарк отреагировал на это повышением импортных пошлин на зерно из России. Петербург не заставил себя ждать и повысил импортные пошлины на промышленные товары из Германии. В результате торговой войны доля Германии в импорте России за период 1888-1890 гг. снизилась с 46% до 34%.
Российско-германские разборки вышли за пределы торговли товарами. Они затронули уже сферу инвестиций. Так, в 1887 году Россия запретила немецким предпринимателям покупать земли на территории Царства Польского. А Бисмарк ответил на это запретом торговать российскими ценными бумагами на территории Германии. Такой торговлей Россия начала заниматься во Франции. Долговые бумаги России стали размещаться преимущественно во Франции. Так незаметно, шаг за шагом происходило сближение России и Франции. Не просто сближение на почве торгового и инвестиционного сотрудничества, а сближение против Германии. Закладывались основы альянса, который был оформлен уже в начале ХХ века и получил название «Антанта» (военно-политический блок Российской империи и Франции, оформленный в 1904 году; в 1907 году к нему присоединилась Великобритания).
Некоторые историки утверждают, что главную причину Первой мировой войны следует искать в сфере торговых противоречий Лондона и Берлина. И что роковой ошибкой Лондона было то, что Англия не могла отказаться от предрассудков фритредерства. Мол, если бы Лондон ввел импортные пошлины до 28 июля 1914 года (официальная дата начала Первой мировой войны), то, может быть, все ограничилось бы торговой войной. А по жизни получилось, что средством разрешения острейших торгово-экономических противоречий стали не пошлины и торговые переговоры, а пушки, пулеметы и бомбы.
Правда, другие историки утверждают, что торговая война могла лишь ненадолго отсрочить начало полномасштабной «горячей» войны. Ведь торговая война – введение пошлин и переговоры, а на уступки ни одна из сторон не пошла бы.
Более того, пошлины и торговые переговоры, по их мнению, вообще ничего не решают. А каждая вторая «горячая» война Новой и Новейшей истории, независимо от декларируемых целей их участников, была заточена на территориальный и экономический передел мира. Т. е. на передел рынков сбыта товаров, источников сырья (природных ресурсов), дешевой рабочей силы, сфер приложения капитала. Все это подробно описано в работе В. Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма» (1916).
А теперь о Второй мировой войне. Она возникла почти ровно через десять лет после того, как в октябре 1929 года на фондовой бирже Нью-Йорка произошел обвал («черный четверг»), спровоцировавший мировой экономический кризис. В свою очередь, кризис подтолкнул почти все страны мира к принятию жестких протекционистских мер. Первый шаг сделали США, которые 17 июня 1930 года приняли Закон Смута – Хоули о тарифе. Это было при 31-м президенте США Герберте Гувере.
1930-е годы – время беспрецедентно жесткой всеобщей торговой войны. Причем кроме импортных тарифов использовались прямые запреты и ограничения на ввоз товаров и другие нетарифные инструменты. В обзоре мировой экономики за 1931/32 годы, опубликованном Лигой наций отмечалось: «В коротком докладе невозможно дать сколько-нибудь полное описание всех разнообразных методов, использованных для ограничения торговли. После отказа Великобритании от золотого стандарта в сентябре 1931 года началась настоящая паника: на прежние тарифы громоздились новые, системы лицензирования превращались в запреты, монополии или квоты, действующие торговые соглашения денонсировались, ужесточение валютного контроля оборачивалось мораториями на долговые выплаты и парализовало торговлю, прежние договоры заменялись неустойчивыми и непостоянными клиринговыми схемами... Никогда раньше не происходило столь всеобъемлющего и массового отказа от экономического сотрудничества».
Экономический кризис и всеобщий протекционизм 1930-х годов подталкивали мир, в первую очередь Европу, к «горячим» методам преодоления экономических проблем. С учётом сказанного Вторая мировая война была, помимо всего, и торговой, т. к. ее главные участники добивались передела мировых рынков в свою пользу. И передел произошел. Так, накануне Второй мировой войны (1938 г.) доля США в мировом экспорте составила 32%, а в 1945 году – 45%. А вот доля Германии в мировом экспорте в 1938 году оценивалась в 9,4%, а в 1945 году она были близка к нулевой отметке.
Практически при каждом американском президенте с начала прошлого века США начинали (или провоцировали) «горячие» войны в разных точках мира. Только за 1945-2001 гг., по подсчётам китайских специалистов, Штаты устроили 201 вооруженный конфликт из 248, произошедших в 153 регионах мира с конца Второй мировой войны. А сколько их вспыхнуло в этом веке? Особенно после спровоцированного Вашингтоном обрушения башен МТЦ 11 сентября 2001 года. – Афганистан, Ирак, Сирия, Камерун, Ливия, Ливан…
И вот в Белый дом приходит «миротворец» Дональд Трамп. Его поклонники говорят, что такого президента в истории США еще не было. Мол, он обещал, что будет отстаивать и продвигать интересы Америки в мире только с помощью «торговых войн». А те «горячие» войны, которые вспыхнули до него, он будет только гасить. Совсем не уверен, что Дональд Трамп может войти и историю как «миротворец». Еще раз повторю простую истину: торговые войны имеют «холодную» и «горячую» фазы. И после того, когда они переходят в «горячую» фазу, их просто перестают называть «торговыми». 31-го президента США Герберта Гувера также считали очень миролюбивым политиком. Но запущенная им волна протекционизма стала катализатором, ускорившим приближение Второй мировой войны.